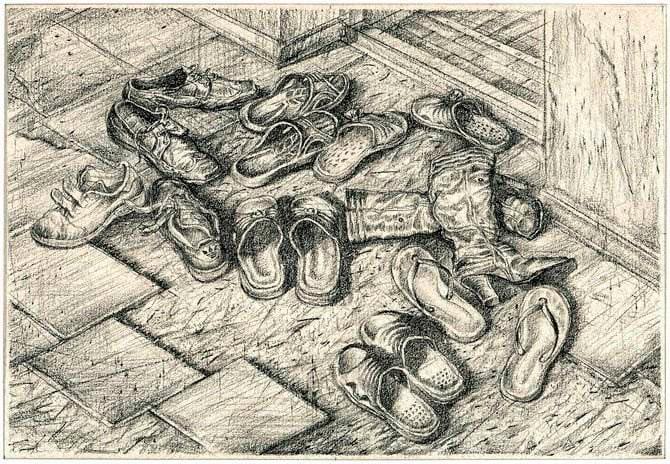
От редакции. Самородок… Валентин Собакин, понятное дело, литературный самородок, который, по возможности, никак и гранить не следует. Или что там с самородками делают ювелиры? Так вот, не следует так с Собакиным. Оттого в этом тексте максимально сохранена авторская манера, с сучками, а особенно, с задоринками. Удовольствие получите от чтения, как и хозяин данного сайта получил. Особенно та благословенная публика, что имела отношение к общагам ДонГУ в прекрасные и прекраснодушные даже времена конца прошлого тысячелетия. И те страдальцы, которые по иронии злодейки-судьбы пересекаются с самодеятельными поэтами, чья энергия и настойчивость были бы бесценными, будь они направлены на мирные цели.
Приглашение было с почтовую открытку, написанным от руки с игривыми завитушками, раскрашенное карандашом в декадентские лиловые цвета. Текст призывал на творческий вечер поэтического клуба «Шелудивое настроение» по адресу комната 207 университетского общежития № 3.
Бабакин долго и недоверчиво разглядывал картонный прямоугольник, слабо пахнущий типографской краской.
На разлинованном поле элегантной женской рукой были вписаны имена участников литературного мероприятия.
— Настоящие поэты? — недоверчиво спросил Бабакин у владельца приглашения Влада Устименко. И зачем такие фамилии у них как у цирковых лошадей?
— Самые что ни на есть настоящие поэты, — без улыбки ответил Влад, — Рифмы кроят как мы с тобой семечки лузгаем. А псевдонимы, потому что люди творческие, ищут себя в окружающем мире.
— Где они себя ищут? — нахмурился Бабакин.
— В окружающем мире. Во Вселенной. В социуме, — спокойно, с расстановкой ответил Устименко. Влад всегда ценился товарищами за нечеловеческое терпение и выдержку.
— А приглашение тебе зачем дали? Ты тоже поэт? — настороженно продолжил опрос Бабакин.
— Я меценат, — холодно отстранился Устименко, — Три пачки чая цейлонского я меценатствовал, сыра пошехонского кило и московской колбасы палку на бутерброды. А они мне дают возможность прикоснуться к прекрасному. В благодарность за колбасу.
— А можно я тоже прикоснусь к прекрасному, Влад? — задушевно спросил Бабакин, — Возьми меня с собой на вечер. Тоже как мецената. Вроде как сыр пошехонский от тебя, а колбаса от меня. Мешать не буду, тихонько где-нибудь на задах посижу.
— И очень хорошо, — неожиданно согласился Владислав, — Там ещё портвейн будет. А то мне одному как-то неловко в творческом окружении, среди интеллигентных людей.
…Пять стеариновых свечей ровно, не колеблясь, горели на столе в двести седьмой. Было откровенно душно. На кухонном столике, вокруг нетронутой батареи бутылок портвейна сиротливо сгрудились пустые тарелки, залепленные хлебными крошками, стаканы с худыми дольками лимона на дне. Бутерброды кто — то переставил на подоконник.
Уже отшептала свои невесомые рифмы поэтесса Ксения Вихляева, широкобровая девушка с беличьим взглядом, рассказал длинный белый стих чернявый застенчивый мальчик — филолог.
Оцепеневший Бабакин тяжело молчал, намертво прижатый стульями и спинами поэтов и поклонников к стене. Слева его подпирал уже угрюмый Владислав. Справа теснил авангардно настроенный поэт Аркадиуш Удод, рыжий брянский крестьянин с лицом возмущённого филина. Прямо перед Бабакиным сидел псевдоякутский поэт — шаманист Спиридон Сушняг. Спиридон безостановочно раскачивался с неопасной амплитудой и на малых оборотах пробовал себя в шаманском горловом пении, совершенно не обращая внимания на декламаторов. Впрочем, на него также никто не обращал внимания.
Спиной к оконному стеклу примостились участники музыкально — поэтического дуэта: застенчивая Зинаида Авербах и вызывающий Арчибальд Мучнистый. Руки их были трогательно сплетены, взгляды полны нежности и сострадания друг к другу. Вязаный свитер Арчибальда был романтично прожжён у горла сигаретой, голубой свитерок Зинаиды был строг и безукоризнен. Угол под книжными полками занял казачий бытописатель Чресседельник — Заамурский, обладатель вислых усов и медной серьги в розовом девичьем ушке. Бытописатель с одной стороны был обсижен воздыхательницами. С другой к нему примыкал сухой, жилистый поэт-романтик Александр Кручёных, угловатый человек с высокими степными скулами. За председательствующим столиком примостился организатор вечера концептуалист Афанасий Потрох, стриженый человек с агатовыми глазами пройдохи. Прямо напротив Потроха заполняла собой пространство женщина — поэт с библейским именем Суламифь и с хромой княжеской фамилией Оглоблишвили. Женщина была большая, округлая, в тесном муаровом платье глухонемого чёрного цвета.
Остальные места в комнате были плотно засижены восторженными девушками — поклонницами. Застиранные шторы отрезали внешний заоконный мир, белая фанерная дверь прикрывала творческих людей от кухонных запахов и коридорного шума. Атмосфера была камерная.
Запрокинув коротко стриженую голову, администратор вечера Афанасий Потрох читал нараспев концептуальное:
Златоглавые арбузы
Прочно оседают в лузах
Беззастенчивые музы
Теребят своих коней
И колонной в Дом Союзов
Пробегают босоножно
Несвободные гетеры
Секретарши всех вождей
Бабакин вопросительно косил глаза на Влада. Тот неопределённо играл бровями и досадливо морщился.
— Вышли в поле гагаузы
внуки пафосной весны
В синих вязаных рейтузах
Вышли и опять ушли…
Афанасий сбрасывал тембр голоса до воркующего, когда агатовый глаз его упирался в муаровую грудь Суламифи. Женщина в ответ благородно волновалась могучей бюстом, тесно спелёнатым платьем. Мощные икроножные икры Суфамифи были вбиты в остроносые сапожки, широкий пояс обозначал талию. В иных декорациях Суламифь легко можно было принять за владетельную княжну захудалого кахетинского рода.
Бабакин хвалил себя за то, что когда собравшиеся пили чай, он успел украдкой спроворить со стола винную бутыль. Половину Бабакин уже незаметно высосал, опасливо поглядывая по сторонам. Портвейн грел желудок и рассеивал неуверенность.
Афанасию вежливо похлопали. Он выждал паузу, едва заметно кивнул и в дело осторожно вступил дуэт Зинаиды и Арчибальда. Изящно музицировала Зинаида на семиструнке, Арчибальд цепко держал её за плечико длинными хищными пальцами. Они вполне прилично исполнили «Здравствуй, здравствуй, я вернулся…» и благосклонно приняли аплодисменты. Зинаида светилась застенчивой улыбкой. Арчибальд угрюмо кутался в оконную штору и приветливо скалил йодистые от табака клыки.
Публика оживилась настолько, что последние строки песни, смело подтягивала Зинаиде и Арчибальду. Хранили молчание только захмелевший Бабакин, сдержанный Владислав и плосколицый филин — авангардист Аркадиуш Удод. Аркадиуш напряжённо смотрел прямо перед собой, редко моргал коротенькими рыжими ресницами. Иногда слабо шевелился внутри своего волосатого пиджака с громадными ватными плечами.
На бис дуэт Авербах — Мучнистый лихо отгремел «Не секрет, что друзья не растут в огороде…» благословенной Юнны Мориц. Бабакин уже было воспрял от портвейна и хороших стихов но тут, по воле Афанасия, в дело вступила владетельная княгиня Оглоблишвили. Длинные строфы Суламифи тяжело ложились на плечи опять ссутулившегося Бабакина, не давая возможности ни встать, ни вздохнуть ни позвать на помощь:
— По ничейным полям я пройду налегке
Средь бескрайних природных просторов
По пыльце беззаветных цветов полевых
По остаткам дымов пароходных…
Суламифь читала стихи в нос, протяжным кахетинским сопрано. На её великокняжеских бровях скупо собирались крохотные капельки пота. Заглохший было при музицировании Спиридон Сушняг снова зарокотал трахеей, усиленно изображая горловое шаманское пение. Суламифь благодарно поглядывала на шаманистого аккомпаниатора, не прерывая трагичных строк:
Не зови меня вдаль, не кричи по утрам
Я на диких умчалась лошадках
В ту далёкую степь, за тугой горизонт
Где меня целовали украдкой.
Бабакин сдерживал дыхание, осоловело смотрел прямо перед собой в резонирующую спину Спиридона. Малозаметный глоток портвейна помог справиться с наползающей беспросветной тоской.
Влад каменно сидел рядом, весь в привычном своём слоновьем терпении. Воздух в комнате был густой и вязкий, напоенный прелыми винными парами и сычужным запахом пошехонского сыра.
Чуть умолкла Суламифь под вялый треск аплодисментов и Бабакин совсем было собрался вывернуться из стула, выскользнуть в коридор, к людям, к свету. Но Афанасий подмигнул агатовым глазом и объявил чтение отрывков из поэмы «Лазоревый хуторянин или лампасы в ковылях» в исполнении бытописателя Чресседельник — Заамурского.
Заамурский, игнорируя других почитательниц, весь вечер плотно вжимался в атласное бедро Инессы Бубенец, коротенькой любительницы акмеизма. Инесса отличалась от других пышноволосых поклонниц. Её голова была похожа со средней дистанции на освежёванный ананас с подсохшим хвостиком волос на макушке. Любительница акмеизма поощрительно похохатывала, ответно вжимаясь в худощавый берцовый сустав Заамурского, крытый диагоналевыми брюками. Чресседельник манерно отстранился от прижатого к нему с другой стороны Александра Кручёных и ещё более тесно вжался в Инессу Бубенец. Пожевал вислый ус и сердито начал читать сытым говяжьим голосом, пристально глядя на увядший хвостик волос Инессы:
Необъятной томимый тоскою
В камышах я лежал босиком
Всевеликое Войско Донское
Проскакало за дальним селом
Бабакин сдавлено застонал, чувствуя подход мигреневой боли. Владислав неопределённо всхрапнул по-жеребячьи, прямо в тематику звучащим стихам. На них обернулись и пришлось делать сосредоточенные лица.
За дверью комнаты, на близкой кухне торжественно гремели крышки кастрюль и глухо постукивали по плите чугунные сковороды. Какой-то счастливый свободный человек насвистывал футбольный марш сквозь треск жарящейся картошки.
А в полумраке литературного вечера неотвратимый Чресседельник — Заамурский продолжал сердито выговаривать стихи в макушку Инессе Бубенец. Утомившийся от беспрерывного горлового пения Спиридон Сушняг тревожно прядал ушами, вслушиваясь в голос казачьего бытописателя. Суламифь роняла бисерный пот с брови и жарко вглядывалась в бесстрастное лицо Спиридона. Организатор Афанасий с замершей физиономией тоже смотрел на горлового певца. Недобро, со снайперским прищуром. В переносицу.
Осоловевший от колбасы и пошехонского сыра Арчибальд Мучнистый тихо жрал четвёртый бутерброд, роняя крошки на голубой зинаидин свитер. Разопревший от духоты и портвейна Бабакин нехорошо думал о собравшихся.
Чресседельник — Заамурский продолжал, помогая себе сабельными взмахами свободной от Инессы руки:
…И в заснеженных пажитях зяби
В заскорузлых своих башлыках
Есаулы рубили баулы
Поджигали сарай второпях…
Бабакин уже демонстративно, с громким бульком потянул портвейн из горлышка. Толкнул в бок Влада, но тот отказался.
В коридоре мелкими колокольцами сыпался искренний девичий смех, глуховато бубнили уговаривающим мужским тенором. Пятикурсница Оленька Липовская разудало пела за дверью песню про глухарей на токовище, которые бьют крылами до зари. Бабакин физически ощущал высокую печаль. Портвейн горчил, от вида неутомимо жрущего Арчибальда подташнивало. Вечер неотвратимо становился мерзким.
Наконец Чресседельник в последних строках поэмы безжалостно убил — таки всех главных героев тупыми комиссарскими саблями. Бабакин выдохнул и сделал непроизвольное движение рукой к крестному знамению.
Комната взорвалась аплодисментами. Оживший Афанасий Потрох перегнулся через стол и хлопнул Заамурского по хилому фланелевому плечу. Девушки целовали бытописателя поочерёдно в вислый ус, в медную серьгу, в седеющую прядь за ухом. Заамурский млел от поцелуев, сыто жмурил глаза и опасливо косился на акмеистку. Инесса раздувала ноздри и придерживала поклонниц локотком. Успех лампасной поэмы был полный.
Воодушевлённый Потрох под сурдинку объявил Аркадиуша Удода с его авангардными опытами в любовной лирике. Бабакин протяжно, не таясь, зевнул во всю мощь верхних дыхательных путей. На него опять обернулись, но Бабакин смотрел в ответ уже без подобострастия, где-то даже развязно.
Не меняя плоского совиного выражения лица Аркадиуш заговорил низким загробным голосом:
Кинжальных вишен тишина
Одна осталась
Среди мерцающих подруг
Пришла усталость
Зовущих мышц слепой отсвет
Не мил мне больше
Остывших башен минарет
Грохочет в полночь
Чуткий Спиридон Сушняг, как камертон, сразу же отреагировал низким трахейным подвыванием.
— Чушь собачья. Белиберда — громко, без стеснения сказал Бабакин.
Дрожь прошла по спинам поэтов и поклонниц, обращённых к Бабакину. Аркадиуш бесстрастно продолжал могильный монолог:
Бессчётных пушек солидол
Прикрылся тленом
В уста мне вложен промедол
Забит поленом
— Ну бред же сивокобыльский какой-то! — звенящим счастливым голосом произнёс Бабакин прямо в большое хрящеватое ухо Аркадиуша. Удод выдержал крохотную паузу, нарочито помял кадык и за него предсказуемо вступился организатор вечера Афанасий:
— Вам не нравится поэзия? — вкрадчиво спросил он Бабакина.
— А это и не поэзия вовсе, — откликнулся Бабакин, ловчее перехватывая бутыль с портвейном, — То что декламирует Аркадиуш, прости Господи, Удод, совсем не поэзия. Это птичье гуано в жидком состоянии, а не поэзия. Да и у вас, Афанасий, концептуальность фуфлыжная какая-то. Рифма убогая напрочь: лузы, пузы и арбузы. Те же гагаузы — прекрасные люди, а вы их в рейтузы с какой-то радости обрядили, да ещё и в вязаные.
По рядам прошёл лёгкий весенний шум возмущения. Афанасий с улыбкой психотерапевта слушал Бабакина и делал успокаивающие пассы остальным. Влад совершил попытку прихватить Бабакина за локоть, но промахнулся.
— Суламифь, душа моя, — продолжал Бабакин, невозмутимо наливая себе портвейн в солдатскую эмалированную кружку, — Вы же в столовой Минпромугля трудитесь, так ведь? Не отрицайте, я вас там видел, в колпаке поварском… Так зачем вам этот балаган рифмованный, дорогуша? Я за ваши пожарские котлеты отдам все поэтические сборники и Аркадиуша Удода в придачу. Существующие и будущие сборники вместе с Аркадиушем отдам. Потому что пожарские котлеты в вашем исполнении — это чистой воды гекзаметр, ямб и хорей. Остальное — в печку.
Бабакин периферийным зрением уловил глотательную реакцию Спиридона на звук льющегося портвейна и вопросительно приподнял бровь. Спиридон утвердительно кивнул и незамедлительно получил искомое. Сразу подобрев лицом, Спиридон благоговейно припал губами к эмалированному ободку.
— Тебя вот взять, Чресседельник, который Заамурский, — не унимался Бабакин, уже перекрикивая возмущённый ропот поэтического собрания, — Заканчивай киснуть в урбанистической среде. Ноги в стремя, шашку в руки и эге-гей, в степь, в пустыню, в пампасы, на погранзаставу азиатскую галопируй. Там и читай стихи лошадям, если ветеринары не запретят. И будет тебе литературное счастье!
Протестный шум в собрании нарастал и мальчик — филолог уже различимо произнёс провокационное слово «Хам».
— Гыспада! Гыспада! — с отчётливыми белогвардейскими интонациями увещевал окружение Чресседельник, — Да он же пьян, гыспада!
— Так я и не скрываю, — кричал в ответ Бабакин, выворачиваясь из рук успокаивающего его Устименко, — Потому как слушать ваши непереваренные стихотворные формы трезвому человеку невозможно. Это же убожество и гугнявость сплошная!
Саня Кручёных! Ты вчера с нами в футбол резался, помнишь? Ты же мне все шейные позвонки свернул финтами своими, все коленные суставы повыкручивал замахами ложными. В глазах от тебя рябило и на поле гаревом ты — Маяковский, даже спорить не нужно!
Кручёных хохотал, зажав лицо ладонями. Суламифь восторженно дышала в сторону раздухарившегося Бабакина. Спиридон после портвейна мгновенно впал в глубокую таёжную спячку. Застыл на стуле поэт-шаманист, по-звериному втянув голову в плечи. Магаданская светлая грусть лежала на его умиротворённом лице. Чресседельник успокоительно целовал эмоциональную Инессу в ананасную щеку. Арчибальд Мучнистый под шумок распихивал по карманам оставшиеся бутерброды. Бутерброды не влезали в карманы и крошились. Арчибальд злился и сквернословил.
Устименко вполголоса успокаивал багрового Афанасия Потроха. одновременно мягко подталкивая Бабакина к дверям. Но Бабакин был крепок и неподатлив. Вывернувшись из — за плеча Влада, он официальным тоном сказал, глядя прямо в совиный профиль Аркадиуша:
— А тебе, Удод, вообще надо запретить писать в рифму. На законодательном уровне запретить, решением пленума Союза писателей.
И вообще писать запретить. Знаками обращайся с людьми. Вот так.
Аркадиуш оцепенело смотрел на колеблющийся огонь свечи, мял в руках листочки, погружённый в безответное молчание. Собрание клокотало. Бабакин вышел вон, демонстративно хлопнув дверью, и не забыв прихватить с собой непочатую бутылку портвейна. Вслед ему на столе зловеще ввзметнулся свечной огонь.
На совершенно пустой, залитой ярким электрическим светом кухне жадно курил Бабакин в приоткрытое окно. Влад Устименко сидел рядом, аккуратно придерживая его за рукав.
— Я-то думал Заблоцкого читать будут, Георгия Шенгели, Бальмонта, Северянина Игоря в конце концов. Бунина Ивана Алексеевича, лауреата нобелевского, — продолжал горячиться Бабакин, — Смелякова прочтут с его хорошей девочкой Лидой, раннего Катаева, Блока позднего, Асеева с Нарбутом. Да хоть Евтушенко с Рождественским. А вот отсебятины такой никак я не ожидал, никак.
Мудро и печально улыбался Устименко, но рукав Бабакина не отпускал.
За окном низко стояли звёзды. Крепкий прохладный ветер издевательски задувал назад сизый сигаретный дым. Бабакин кашлял, сморкался, утирал слезящиеся глаза и продолжал ругаться.
В двести седьмой примирительно пели хором митяевское «Как здоров что все мы здесь сегодня собрались…».
Текст Валентина Собакина впервые опубликован сайтом MARMAZOV.RU 21 февраля 2019 года










